Детская повседневность
Учебные прогулки и экскурсии как элемент детской повседневности в Оренбурге на рубеже XIX-XX вв.
В статье на основе широкого круга опубликованных источников исследуются практики организации ученических прогулок и экскурсий в учебных заведениях Оренбурга рубежа XIX-XX вв. и роль этих видов внеучебных занятий в детской городской повседневности. Автор обращает внимание на предлагаемые детям маршруты, экскурсионные программы, отношение детей и родителей к подобному времяпрепровождению. Анализируются различия в прогулках, организованных для мальчиков и для девочек. Делается вывод о высокой степени значимости подобных мероприятий для образовательного и воспитательного воздействия на личность ребенка, для подготовки ребенка к будущей взрослой жизни. Подчеркивается особая важность таких путешествий именно для городских детей, использующих эту возможность для знакомства с природным объектами и новыми для них видами деятельности.
Статья размещена на портале eLibrary: https://elibrary.ru/item.asp?id=65008814
Ссылка для цитирования: Бурлуцкая, Е. В. Учебные прогулки и экскурсии как элемент детской повседневности в Оренбурге на рубеже XIX-XX вв / Е. В. Бурлуцкая // История повседневности. – 2024. – № 1(29). – С. 10-25. – DOI 10.35231/25422375_2024_1_10. – EDN DGBBMB.
Ссылка для цитирования: Бурлуцкая, Е. В. Учебные прогулки и экскурсии как элемент детской повседневности в Оренбурге на рубеже XIX-XX вв / Е. В. Бурлуцкая // История повседневности. – 2024. – № 1(29). – С. 10-25. – DOI 10.35231/25422375_2024_1_10. – EDN DGBBMB.
На рубеже XIX-XX столетий представители российской системы образования всерьез задумались над глобальной трансформацией содержания и форм школьного обучения. Эта потребность в модернизации довольно консервативной системы образования была вызвана общим ходом исторического развития – Россия переживала последствия глубинных и масштабных преобразований Александра II, Александра III, приспосабливалась к последствиям промышленного переворота. Подрастающее поколение должно было не только адаптироваться к новым условиям, но и включиться в будущем в процесс дальнейших реформ, направленных на совершенствование всей государственной системы в целом. Школа в этих обстоятельствах должна была максимально подготовить детей к будущей взрослой жизни, привив им необходимые практические навыки, необходимые для успешного функционирования в новых, сложных и достаточно неопределенных условиях.
Общество в решении этих задач двигалось несколько впереди официальных структур, в связи с чем обсуждение новых принципов, целей и задач образования и воспитания первоначально разворачивалось на страницах газет и журналов, в полемике передовых педагогов, и лишь затем закреплялось какими-либо нормативными документами. Родители, идущие в ногу со временем, старались использовать новые, полезные воспитательные и образовательные практики в семейном кругу.
Общество в решении этих задач двигалось несколько впереди официальных структур, в связи с чем обсуждение новых принципов, целей и задач образования и воспитания первоначально разворачивалось на страницах газет и журналов, в полемике передовых педагогов, и лишь затем закреплялось какими-либо нормативными документами. Родители, идущие в ногу со временем, старались использовать новые, полезные воспитательные и образовательные практики в семейном кругу.
Вопросы, связанные с использованием в школьной и семейной практике таких форм деятельности, как прогулки и экскурсии, сегодня поднимаются в исследованиях ряда авторов. Обращение к ним вызвано не только интересом к прошлому, но и попытками применить накопленный исторический опыт в современных условиях, поскольку современная школа, как и полтора столетия назад, нуждается в обновлении. Так, например, в работе Н. В. Тарасовой был исследован образовательный потенциал ученических экскурсий на рубеже XIX-XX вв. и опыт педагогов прошлого в деле их организации. Л. И. Сизинцева рассматривала школьные экскурсии как коммеморативные практики, способствующие самоидентификации молодежи.
Опыт досоветской педагогики в деле использования образовательного и воспитательного потенциала школьных экскурсий был изучен на примере различных регионов Российской империи. В статьях Г. В. Мерзляковой и Л. В. Баталовой был дан анализ экскурсионной работы в учебных заведениях Вятской губернии, в публикациях Д. В. и Т. Н. Арцыбашевых речь шла о внедрении экскурсионных программ в учебный процесс школ Курской губернии, Р. А. Савинкова исследовала аналогичный опыт самарских образовательных организаций, А. Л. Ильин – в учебных заведениях дореволюционного Пинска. А. С. Киселева изучала освещение экскурсионной деятельности в Нижнем Новгороде на страницах периодических изданий начала XX в.
Поскольку на материале Оренбурга аналогичных исследований еще не проводилось, целью данной статьи является анализ таких учебно-воспитательных практик, как ученические прогулки и экскурсии, организованных в учебных заведениях Оренбурга, с позиций их влияния на детскую повседневность рубежа XIX-XX вв. В качестве основного метода исследования был использован кейс-метод (Case study) или метод проблемно-ситуационного анализа, суть которого заключается в том, чтобы осмыслить различные жизненные случаи, описанные в источниках и имеющие отношение к рассматриваемой проблеме.
Опыт досоветской педагогики в деле использования образовательного и воспитательного потенциала школьных экскурсий был изучен на примере различных регионов Российской империи. В статьях Г. В. Мерзляковой и Л. В. Баталовой был дан анализ экскурсионной работы в учебных заведениях Вятской губернии, в публикациях Д. В. и Т. Н. Арцыбашевых речь шла о внедрении экскурсионных программ в учебный процесс школ Курской губернии, Р. А. Савинкова исследовала аналогичный опыт самарских образовательных организаций, А. Л. Ильин – в учебных заведениях дореволюционного Пинска. А. С. Киселева изучала освещение экскурсионной деятельности в Нижнем Новгороде на страницах периодических изданий начала XX в.
Поскольку на материале Оренбурга аналогичных исследований еще не проводилось, целью данной статьи является анализ таких учебно-воспитательных практик, как ученические прогулки и экскурсии, организованных в учебных заведениях Оренбурга, с позиций их влияния на детскую повседневность рубежа XIX-XX вв. В качестве основного метода исследования был использован кейс-метод (Case study) или метод проблемно-ситуационного анализа, суть которого заключается в том, чтобы осмыслить различные жизненные случаи, описанные в источниках и имеющие отношение к рассматриваемой проблеме.
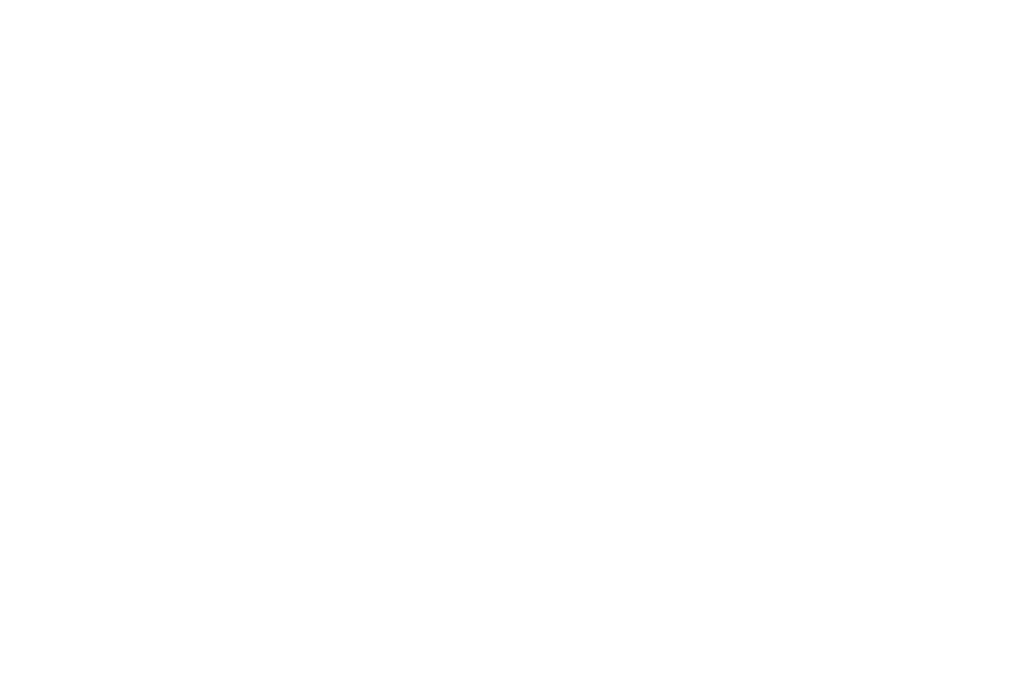
Оренбургская мужская гимназия (современная ул. Советская, 19)
Училища и гимназии Оренбурга на рубеже XIX-XX вв. стали активно использовать прогулки в своей практике. Особой популярностью у прогуливающихся пользовалась гора Маяк. В апреле 1892 г. учащиеся оренбургской мужской гимназии под звуки собственного духового оркестра и оркестра казаков отправились на Маячную гору, расположенную в 4 верстах от города (чуть больше 4 км.). «Даже крошки из приготовительного класса маршировали в ногу и имели торжествующий воинственный вид!». На горе для детей были приготовленный чай и завтрак. Дети провели прекрасный весенний день «в играх и беготне на вольном воздухе». Были даже импровизированные танцы на полянке. Огромные самовары, котлы для жаркого и варки яиц, разведенный костер создавали впечатления военного бивуака. Вечером учитель гимнастики Исаков продемонстрировал навыки своих учеников на приспособлениях для военной гимнастики солдатского лагеря, существующего на Маяке. Дети «отлично прыгали через рвы, лазили по лестницам и подвесным шестам, а в заключении ловко и храбро штурмовали и взяли крепость из земляной насыпи и рвов». В 7 часов вечера дети отправились домой в сопровождении двух оркестров и множества публики, конной и пешей».
Еще раньше, в сентябре 1890 г. и в мае 1891 г. гимназисты выбирались в Зауральную Рощу. Тоже с оркестрами, песнями и маршами. Детей сопровождали попечитель Оренбургского учебного округа, начальник казачьего штаба, учитель гимнастики и многие родители «с семействами». Дети «занимались пением, музыкой и предавались разнообразным играм и забавам, свойственным детскому возрасту».
Еще раньше, в сентябре 1890 г. и в мае 1891 г. гимназисты выбирались в Зауральную Рощу. Тоже с оркестрами, песнями и маршами. Детей сопровождали попечитель Оренбургского учебного округа, начальник казачьего штаба, учитель гимнастики и многие родители «с семействами». Дети «занимались пением, музыкой и предавались разнообразным играм и забавам, свойственным детскому возрасту».
«Деревья, цветы, разнообразные травы – все привлекало внимание детей, возбуждая живой интерес»
В июне 1898 года учащиеся церковно-приходских школ Оренбурга посетили недавно открытый Успенско-Макариевский (Мещеряковский) мужской монастырь в Подгородней Покровке. Монастырь был основан на средства оренбургского купца 2-й гильдии Александра Григорьевича Мещерякова. Мальчики, девочки, их родители и родственники (всего около 200 человек) отправились в путь рано утром 5 июня. Большинство детей «никогда не ходили дальше Оренбурга и ничего не знали о Мещеряковском монастыре». К монастырю решено было идти «кратчайшим путём через Маячную гору, реку Сакмару (на которой к тому времени был устроен паром), лесом и лугом до самого монастыря». Путь составлял 12–13 вёрст (около 14 километров). «Деревья, цветы, разнообразные травы — всё привлекало внимание детей, вызывая живой интерес». Примерно к 11 утра процессия подошла к монастырю, где её встретили игумен и братия. Детям был отведён целый монастырский корпус. Путешественники дружно уселись «за стол и с большим аппетитом принялись за чай с хлебом и пирожки, испечённые им в Оренбурге».
Дети посетили вечернюю службу и из-за дождливой погоды решили переночевать в монастыре. Сам купец Мещеряков, узнав о том, что в монастыре находятся юные паломники, пришёл со своего хутора, расположенного неподалёку. Купец пожертвовал 7 рублей на белый хлеб, а игумен позаботился о приготовлении ужина для детей. Монастырский колокол разбудил всех в 4 утра. Отстояв утреннюю службу, которая длилась несколько часов, дети отправились обратно через Подгороднюю Покровку (17 верст пути — почти 18 км). Дети «резвились, пели». По дороге дети набрали большие букеты цветов, «а тенистые деревья служили прекрасным местом для отдыха».
Дети посетили вечернюю службу и из-за дождливой погоды решили переночевать в монастыре. Сам купец Мещеряков, узнав о том, что в монастыре находятся юные паломники, пришёл со своего хутора, расположенного неподалёку. Купец пожертвовал 7 рублей на белый хлеб, а игумен позаботился о приготовлении ужина для детей. Монастырский колокол разбудил всех в 4 утра. Отстояв утреннюю службу, которая длилась несколько часов, дети отправились обратно через Подгороднюю Покровку (17 верст пути — почти 18 км). Дети «резвились, пели». По дороге дети набрали большие букеты цветов, «а тенистые деревья служили прекрасным местом для отдыха».
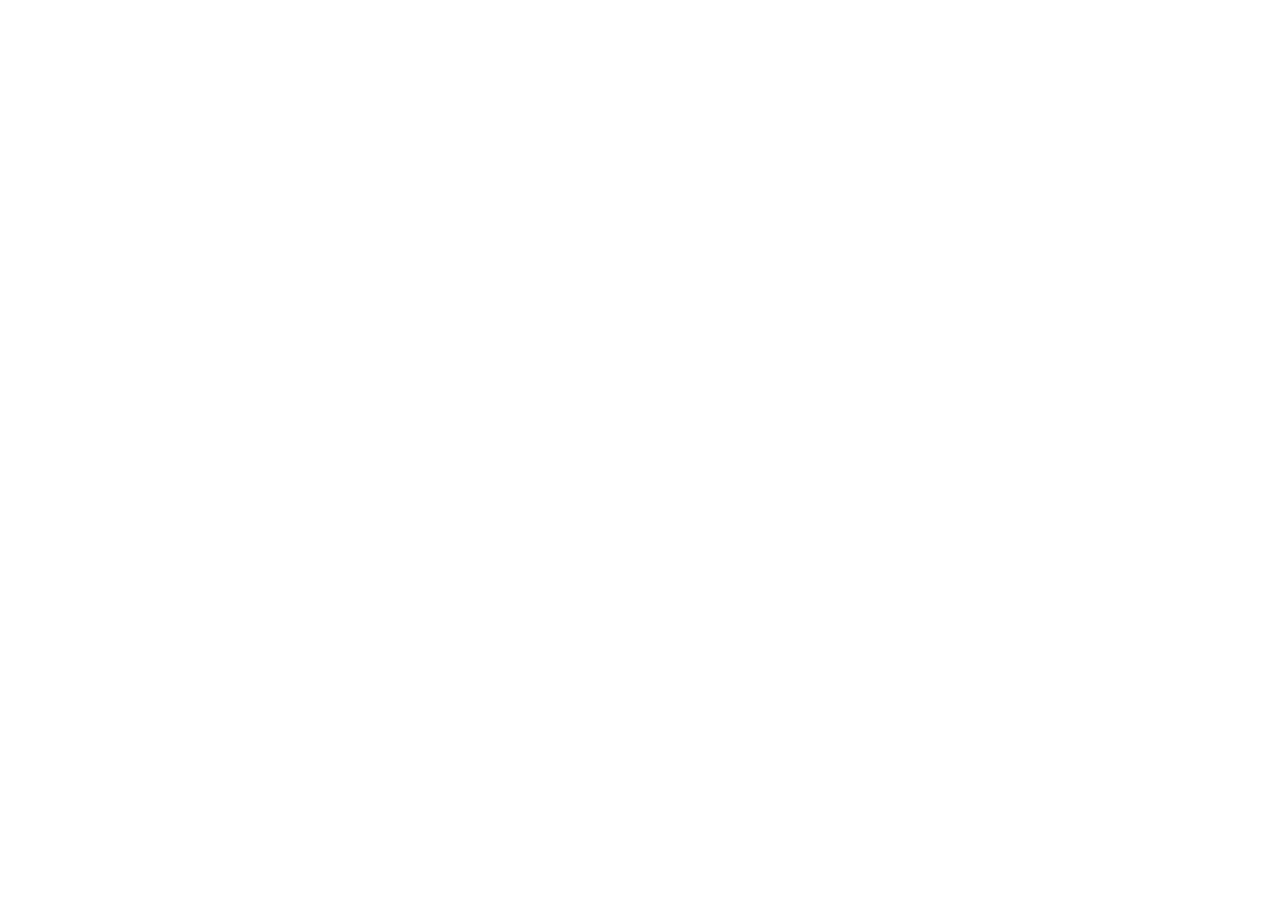
Мещеряковский монастырь, находившийся близ посёлка Подгородняя Покровка за рекой Сакмарой у Оренбурга. 1916 год.
Тогда же оренбургские кадеты совершили несколько прогулок – на берег речки Каргалки возле Подгородней Покровки (как видно, самое популярное место для детских путешествий), на берег той же речки к хутору «г. Степанова (б. Стоколенко)» и за Урал к озеру «Тюкавая яма». Как отмечали журналисты, эти экскурсии «имели военно-походный вид, и поэтому с учащимися следовали обоз с фуражом, медицинская часть и проч. Не были забыты и рыболовные принадлежности. Дети играли в разные игры и прогулками всегда были довольны». «Детей всегда занимает перемена местности. Им приятно также бегать по лугам, по полям и ходить пешком», - отмечалось в заметке.
«Оренбургская газета» в июле 1898 г. писала о том, как девочки из оренбургского Института императора Николая I совершили прогулку с дачи «Маяк» в село Покровку. С раннего утра в Покровку была отправлена телега с провизией, для девочек наняты были экипажи-долгуши, а для представителей администрации и гостей – две тройки. Процессия выехала в половине одиннадцатого утра. «Пыльную часть дороги до Покровского моста проехали в экипажах, затем дети вышли из долгуш и пешком отправились к месту назначения». Пешую прогулку с девочками совершила и начальница института княгиня Оболенская. Весь день воспитанницы провели на берегу реки Каргалки: «гуляли, играли и катались на лодке. Здесь же в лесу был предложен обед, чай и фрукты». В половине девятого вечера прогулка закончилась, и все в экипажах вернулись обратно на институтскую дачу, где детей ждал ужин.
«Оренбургская газета» в июле 1898 г. писала о том, как девочки из оренбургского Института императора Николая I совершили прогулку с дачи «Маяк» в село Покровку. С раннего утра в Покровку была отправлена телега с провизией, для девочек наняты были экипажи-долгуши, а для представителей администрации и гостей – две тройки. Процессия выехала в половине одиннадцатого утра. «Пыльную часть дороги до Покровского моста проехали в экипажах, затем дети вышли из долгуш и пешком отправились к месту назначения». Пешую прогулку с девочками совершила и начальница института княгиня Оболенская. Весь день воспитанницы провели на берегу реки Каргалки: «гуляли, играли и катались на лодке. Здесь же в лесу был предложен обед, чай и фрукты». В половине девятого вечера прогулка закончилась, и все в экипажах вернулись обратно на институтскую дачу, где детей ждал ужин.
«Мальчики, играя в роще, подошли к реке, где Иван Лунев захотел напиться и, подойдя близко к воде, наклонился, чтобы зачерпнуть воды, оступился и упал в реку, утонув на глубоком месте»
Иногда, правда, такие прогулки заканчивались весьма печально. Так, прогулка в 1895 году на гору Маяк учеников VI приходского училища Оренбурга закончилась трагедией — в реке Сакмара «по неосторожности» утонул 11-летний Иван Лунев, сын оренбургского мещанина. «Мальчики, играя в роще, подошли к реке, где Иван Лунев захотел напиться и, подойдя близко к воде, наклонился, чтобы зачерпнуть воды, оступился и упал в реку, утонув на глубоком месте». Судя по описываемым обстоятельствам происшествия, мальчики какое-то время были предоставлены сами себе и остались без присмотра взрослых. Причиной гибели ребёнка была названа его собственная неосторожность.
Тем не менее подобные загородные прогулки стали практиковаться во многих учебных заведениях империи. Школьное экскурсионное движение расширялось и получало поддержку со стороны профильного министерства. Циркуляр министра народного просвещения в 1900 г. отменил прежнее распоряжение о летних работах для учеников. Вместо этого были рекомендованы «образовательные прогулки, путешествия или какие-либо полезные занятия и развлечения, возможные при данных условиях». Особое внимание следовало «обратить на прогулки и путешествия с образовательной целью», которые должны были «сделать преподавание в средней школе более живым и наглядным» (Циркуляр министра народного просвещения попечителям учебных округов — об отмене летних каникул для учеников средних учебных заведений (2 августа 1900 года, № 20185) // Журнал министерства народного просвещения. Седьмое десятилетие. Часть CCCXXXI. 1900, сентябрь. СПб., 1900. С. 65).
Тем не менее подобные загородные прогулки стали практиковаться во многих учебных заведениях империи. Школьное экскурсионное движение расширялось и получало поддержку со стороны профильного министерства. Циркуляр министра народного просвещения в 1900 г. отменил прежнее распоряжение о летних работах для учеников. Вместо этого были рекомендованы «образовательные прогулки, путешествия или какие-либо полезные занятия и развлечения, возможные при данных условиях». Особое внимание следовало «обратить на прогулки и путешествия с образовательной целью», которые должны были «сделать преподавание в средней школе более живым и наглядным» (Циркуляр министра народного просвещения попечителям учебных округов — об отмене летних каникул для учеников средних учебных заведений (2 августа 1900 года, № 20185) // Журнал министерства народного просвещения. Седьмое десятилетие. Часть CCCXXXI. 1900, сентябрь. СПб., 1900. С. 65).
Многие дети никогда не видели «...птичьего гнезда на дереве 10,1 %, ползущей улитки 68,4 %, малинового куста с ягодами 36,8 %, ... живого ежа 1,3 %, хищной птицы на лету 5 %, грибов в лесу 25,3 %, рыбы в воде 2,5 %, ... тюльпанового поля весною 54,4 %»
Образовательная составляющая загородных прогулок была особенно важна для городских детей, которые зачастую были знакомы с природой только по учебникам. Результаты анкетирования, проведенного в 1913 г. «в одной из низших школ г. Оренбурга с пестрым составом учащихся (дети чиновников, приказчиков, мещан, крестьян и т.д.)», показали, что дети никогда не видели «доения коров 5 %, приготовления коровьего масла 38 %, живой изгороди 70,9 %, птичьего гнезда на дереве 10,1 %, ползущей улитки 68,4 %, малинового куста с ягодами 36,8 %, живого скворца 11,4 %, поднимающегося с пением жаворонка 72,2 %, живого ежа 1,3 %, хищной птицы на лету 5 %, грибов в лесу 25,3 %, рыбы в воде 2,5 %, внутренности улья 77,2 %, тюльпанового поля весною 54,4 %». Эти же дети никогда не слышали «пения соловья в 21,5 % случаев, крика кукушки в 5 % случаев». Соответственно, эти же городские учащиеся сообщили, что «никогда не были на огороде — 8,9 %, на пашне — 54,4 %, в лесу — 2,5 %, на лугах — 17,7 %, в степи — 16,5 %» [18, с. 2]. Эти цифры могут показаться странными даже современным городским жителям, поскольку практически все городские семьи сегодня выезжают на дачи, загородные турбазы или просто на летние пикники. Но на рубеже XIX-XX веков из-за отсутствия у родителей свободного времени городским детям, вероятно, действительно было сложно выбраться всей семьёй на природу. Поэтому знакомство детей с окружающим миром природы брала на себя школа.
Как отмечают в своей статье Д. В. и Т. Н. Арцыбашевы, «начало XX в. еще не стало временем разработки методических приемов проведения экскурсий или анализа особенностей показа и рассказа. Тогда главной экскурсионной задачей было ознакомление с уникальными природными и историческими памятниками, представление экскурсантам определенной информации, глубина и качество которой зависели от знаний и подготовленности экскурсовода». В этих обстоятельствах в Оренбургское реальное училище в 1906 г. для проведения занятий на открытом воздухе даже был приглашен специальный учитель, который в теплое время года несколько раз в неделю должен был выбираться с ребятами на прогулки. Кроме того, аналогичные прогулки были организованы и преподавателем природоведения М. А. Голомиевым. Ученики второго класса должны были научиться определять деревья и кустарники по листьям, полюбоваться на «осенний вид» деревьев и трав, на практике увидеть перелеты птиц. При этом выяснилось, что некоторые ученики «никогда еще не видели леса» [19, с. 4]. Такие варианты досуга, в первую очередь, служили образовательным задачам и были своеобразным развлечением, однако приносили немалую пользу в плане оздоровления детского организма.
Как отмечают в своей статье Д. В. и Т. Н. Арцыбашевы, «начало XX в. еще не стало временем разработки методических приемов проведения экскурсий или анализа особенностей показа и рассказа. Тогда главной экскурсионной задачей было ознакомление с уникальными природными и историческими памятниками, представление экскурсантам определенной информации, глубина и качество которой зависели от знаний и подготовленности экскурсовода». В этих обстоятельствах в Оренбургское реальное училище в 1906 г. для проведения занятий на открытом воздухе даже был приглашен специальный учитель, который в теплое время года несколько раз в неделю должен был выбираться с ребятами на прогулки. Кроме того, аналогичные прогулки были организованы и преподавателем природоведения М. А. Голомиевым. Ученики второго класса должны были научиться определять деревья и кустарники по листьям, полюбоваться на «осенний вид» деревьев и трав, на практике увидеть перелеты птиц. При этом выяснилось, что некоторые ученики «никогда еще не видели леса» [19, с. 4]. Такие варианты досуга, в первую очередь, служили образовательным задачам и были своеобразным развлечением, однако приносили немалую пользу в плане оздоровления детского организма.
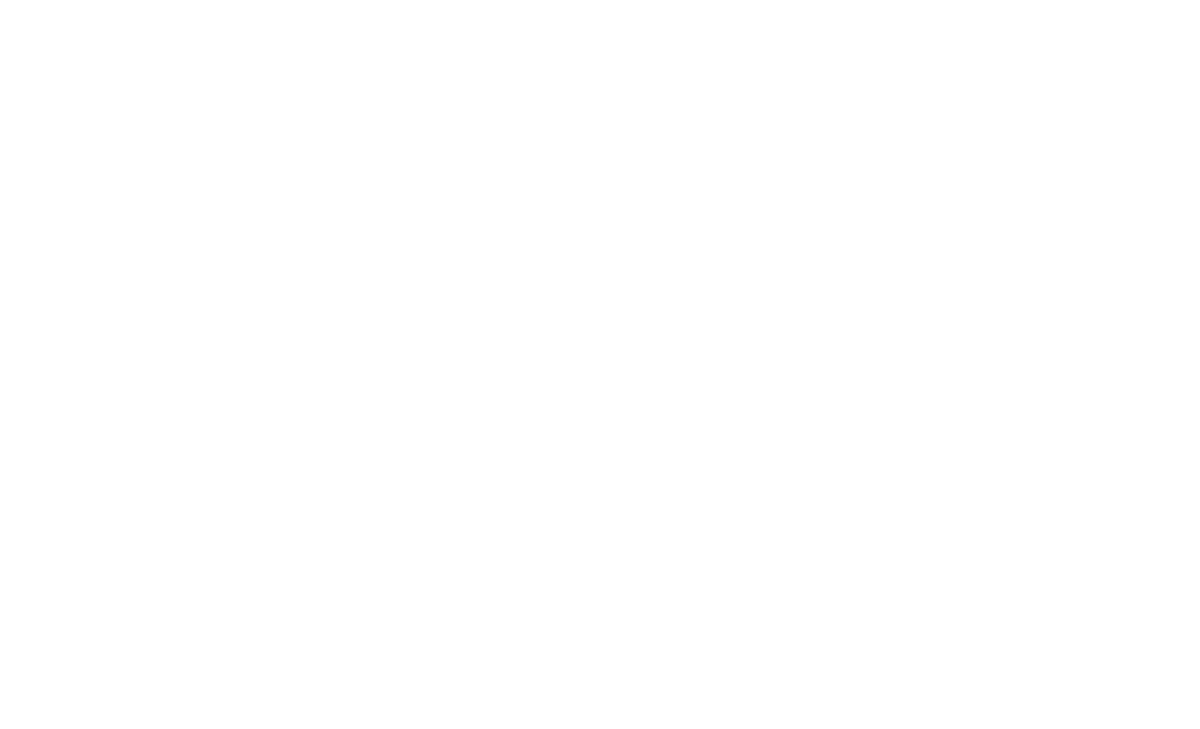
Маковский В.Е. Рыбачки. 1886
В мае 1908 г. состоялась прогулка учащихся 8-го Оренбургского мужского приходского училища по железной дороге на станцию Каргала. По сообщению одного из учителей, сопровождавших экскурсантов, таие прогулки они уже предпринимали на протяжении предыдущих 5-6 лет, из-за чего дети начали готовиться к этому традиционному путешествию заранее. Всего собралось около 150 учеников, нагруженных «мешками, котомками с провизией, чайниками, котелками, удочками», а один из ребят притащил даже бредень. Детей рассадили в трех специально предоставленных для этого вагонах. Дорога, занявшая около 40 минут, вызвала радость и оживление. По приезде в Каргалу дети расположились в ближайшей рощице, где «стали разводить костры, кипятить чайники и уничтожать привезенную с собою провизию». «Отчаянные рыболовы», позабыв про еду, бросились к речке Каргалке, довольно рыбной, и уже через три часа наиболее опытные из них поймали около 150 штук разной мелкой рыбы. Получилась отличная уха, которой рыболовы поделились с сопровождающими экскурсию учителями, а также с некоторыми «нерыболовами».
Часов через пять после появления детей в роще, туда же пешком из города пришли еще несколько учеников. Оказалось, что это были ребята опоздавшие на поезд, но так желавшие приобщиться к общему веселью, что их не остановила даже пешая дорога почти в 25 верст (почти 27 км.).
После закуски и чая начались игры, из которых наибольшей популярностью пользовались лапта и «война русских с татарами» (по мотивам покорения Сибири Ермаком): дети по жребию разделились на две группы («русские» были в фуражках, а «бритые татары» – без головных уборов), выбрали себе «военачальников», после чего «русские» стали штурмовать гору за Каргалкой, за которой спрятались «татары». Смысл игры заключался в том, чтобы взять в плен как можно больше противников. «Победили русские, которые взяли гору и почти всех татар, за исключением немногих убежавших, забрали в плен». После игр дети снова пили чай, пели песни, собирали минералогическую коллекцию, ловили жуков, бабочек и ящериц. В роще дети провели 9-10 часов, после чего отправились поездом домой.
Часов через пять после появления детей в роще, туда же пешком из города пришли еще несколько учеников. Оказалось, что это были ребята опоздавшие на поезд, но так желавшие приобщиться к общему веселью, что их не остановила даже пешая дорога почти в 25 верст (почти 27 км.).
После закуски и чая начались игры, из которых наибольшей популярностью пользовались лапта и «война русских с татарами» (по мотивам покорения Сибири Ермаком): дети по жребию разделились на две группы («русские» были в фуражках, а «бритые татары» – без головных уборов), выбрали себе «военачальников», после чего «русские» стали штурмовать гору за Каргалкой, за которой спрятались «татары». Смысл игры заключался в том, чтобы взять в плен как можно больше противников. «Победили русские, которые взяли гору и почти всех татар, за исключением немногих убежавших, забрали в плен». После игр дети снова пили чай, пели песни, собирали минералогическую коллекцию, ловили жуков, бабочек и ящериц. В роще дети провели 9-10 часов, после чего отправились поездом домой.
Отношение родителей к подобному варианту детского досуга не всегда было положительным. Может быть родители опасались за жизнь и здоровье своих детей, а возможно, хотели оградить собственного ребенка от пагубного влияния товарищей, не обремененных правилами поведения. Так, рассказывая о поездке учеников Оренбургского VII-го мужского приходского училища по железной дороге на станцию Сырт в мае 1908 г., один из сопровождающих, П. Малый, отметил, что, «встретивши одного ученика с матерью, учитель на предложение принять участие в поездке получил от матери такой ответ: “Нет, мы не пустим!”». Возможно, опасения родителей не были совсем напрасными, поскольку в поездке один из учеников II-го отделения «расхворался во время первой прогулки на горы, жалуясь на боль в голове и в животе». По дороге же «один ученик, окончивший уже курс, так развернулся душою, что в разговоре с товарищами произнес несколько нецензурных слов, не то, чтобы громко, а все-таки, так, что стоявший шагах в трех учитель слышал». С провинившимся, конечно, была проведена профилактическая беседа, но полностью пресечь употребление учащимися бранных слов учителя не могли.
В 1910 году ученики Оренбургского реального училища отправились на экскурсию по маршруту: Оренбург — Златоуст — Екатеринбург — Гороблагодатская — Пермь — Вятка — Котлас (по Северной Двине) — Вологда — Ярославль — Нижний Новгород — Самара — Оренбург
Однако практически все представители просвещённой общественности подчёркивали несомненную образовательную ценность экскурсий для детей. С одной стороны, как отмечал А. И. Тарнавский, «Оренбургская губерния со своими громадными незаселенными пустырями не представляет таких удобств для осмысленных путешествий, как какая-нибудь из средних, южных или западных губерний, где и пространство невелико и исторических местностей больше, и промышленные центры чаще; тем не менее и в Оренбургской губ., даже в окрестностях, есть на что посмотреть: железнодорожный мост, монастырь, Берды, своеобразное поселение – Каргала, Гребенская гора, откуда добывают лучший камень, меновой двор, наконец, Илецкая Защита со своими замечательными ломками и копями; а далее может быть устроена и поездка на Волгу, вверх о уфимской дороге, где полный простор для всевозможных наблюдений над красивой и разнообразной природой, и даже куда-нибудь в степь, к киргизскому кочевью или аулу, в зимнюю пору».
В 1903 году «Оренбургский листок» сообщал оренбуржцам, что Оренбургская мужская гимназия организует образовательную «экскурсию для учеников по примеру других учебных заведений». Учащиеся намеревались посетить Киев, чтобы «ознакомиться с его историческими памятниками и религиозными святынями». Руководителем экскурсии был назначен учитель истории К. А. Белавин. В 1910 году ученики Оренбургского реального училища отправились на экскурсию по маршруту: Оренбург — Златоуст — Екатеринбург — Гороблагодатская — Пермь — Вятка — Котлас (по Северной Двине) — Вологда — Ярославль — Нижний Новгород — Самара — Оренбург. Экскурсия была рассчитана на три недели — с 7 по 27 июня. При этом, например, в учебных заведениях Курской губернии «до 1907 года школьные экскурсии носили локальный характер и не выходили за пределы губернии». Таким образом, опыт организации и проведения школьных экскурсий в Оренбурге вполне можно назвать передовым.
В 1903 году «Оренбургский листок» сообщал оренбуржцам, что Оренбургская мужская гимназия организует образовательную «экскурсию для учеников по примеру других учебных заведений». Учащиеся намеревались посетить Киев, чтобы «ознакомиться с его историческими памятниками и религиозными святынями». Руководителем экскурсии был назначен учитель истории К. А. Белавин. В 1910 году ученики Оренбургского реального училища отправились на экскурсию по маршруту: Оренбург — Златоуст — Екатеринбург — Гороблагодатская — Пермь — Вятка — Котлас (по Северной Двине) — Вологда — Ярославль — Нижний Новгород — Самара — Оренбург. Экскурсия была рассчитана на три недели — с 7 по 27 июня. При этом, например, в учебных заведениях Курской губернии «до 1907 года школьные экскурсии носили локальный характер и не выходили за пределы губернии». Таким образом, опыт организации и проведения школьных экскурсий в Оренбурге вполне можно назвать передовым.
В деле максимального распространении экскурсионных практик Министерство народного просвещения активно сотрудничало с Министерством путей сообщения. Последнее в 1899 г. ввело для учащихся специальный летний льготный тариф, «по которому за проезд по железной дороге организованных пассажиров в III-классе предусматривалась скидка в 50 %. 9 марта 1902 г. был утвержден специальный тариф № 6900 на проезд учащихся, отправляющихся в образовательные экскурсии, подтверждающий льготы экскурсионных групп на всех отечественных железных дорогах для каждой группы экскурсантов в течение двух месяцев со дня ее выезда. Воспитанникам низших учебных заведений при поездках на расстояние до 50 км вообще предоставлялся бесплатный проезд».
Циркуляр Министерства народного просвещения от 10 июня 1904 года сообщал о желательности «в летние и рождественские вакации» организации дальних поездок по России, «в особенности с целью ознакомления учащихся с историческими местами, памятниками, святынями, музеями, известными фабриками и заводами» (Циркуляр министра народного просвещения о физическом развитии учащихся (10-го июня 1904 года, № 20185) // Журнал министерства народного просвещения. Седьмое десятилетие. Часть CCCLIV. 1904, июль. СПб., 1904. Правительственные распоряжения. С. 98-99). Кроме того, предлагалось весной и ранней осенью устраивать прогулки преподавателей с их семействами и учащихся с их родителями по окрестностям. Такие прогулки, по мнению Министерства просвещения, должны были способствовать сплочению учащихся и объединять «заведение как бы в одну хорошую семью», что должно было позитивно отразиться и на образовательной, и на воспитательной деятельности. Начальникам учебных округов предписывалось в срок не позднее 1 декабря каждого года направлять в Министерство «отчеты о предпринятых учащимися, под руководством наставников, экскурсиях с описанием последних, составленным кем-либо из участников».
Журналист газеты «Оренбургский листок» в 1900 г. в статье «Ученические экскурсии» радостно сообщал, что Министерство народного просвещения «живо заинтересовалось вопросом о выработке плана совместных ученических экскурсий». Экскурсии должны были нивелировать «казенность, сухость, теоретичность» системы российского образования. Российские школьники, по мнению журналиста, вынуждены были «воспринимать всю школьную программу воображением и памятью», в то время как школьники других стран получали знания преимущественно за счет «непосредственного ознакомления с изучаемым предметом», за счет чувственного опыта. На экскурсиях «грудь ученика дышит воздухом изучаемой страны; глаз видит то, чего отчетливо и верно никогда не представит воображение …».
Циркуляр Министерства народного просвещения от 10 июня 1904 года сообщал о желательности «в летние и рождественские вакации» организации дальних поездок по России, «в особенности с целью ознакомления учащихся с историческими местами, памятниками, святынями, музеями, известными фабриками и заводами» (Циркуляр министра народного просвещения о физическом развитии учащихся (10-го июня 1904 года, № 20185) // Журнал министерства народного просвещения. Седьмое десятилетие. Часть CCCLIV. 1904, июль. СПб., 1904. Правительственные распоряжения. С. 98-99). Кроме того, предлагалось весной и ранней осенью устраивать прогулки преподавателей с их семействами и учащихся с их родителями по окрестностям. Такие прогулки, по мнению Министерства просвещения, должны были способствовать сплочению учащихся и объединять «заведение как бы в одну хорошую семью», что должно было позитивно отразиться и на образовательной, и на воспитательной деятельности. Начальникам учебных округов предписывалось в срок не позднее 1 декабря каждого года направлять в Министерство «отчеты о предпринятых учащимися, под руководством наставников, экскурсиях с описанием последних, составленным кем-либо из участников».
Журналист газеты «Оренбургский листок» в 1900 г. в статье «Ученические экскурсии» радостно сообщал, что Министерство народного просвещения «живо заинтересовалось вопросом о выработке плана совместных ученических экскурсий». Экскурсии должны были нивелировать «казенность, сухость, теоретичность» системы российского образования. Российские школьники, по мнению журналиста, вынуждены были «воспринимать всю школьную программу воображением и памятью», в то время как школьники других стран получали знания преимущественно за счет «непосредственного ознакомления с изучаемым предметом», за счет чувственного опыта. На экскурсиях «грудь ученика дышит воздухом изучаемой страны; глаз видит то, чего отчетливо и верно никогда не представит воображение …».
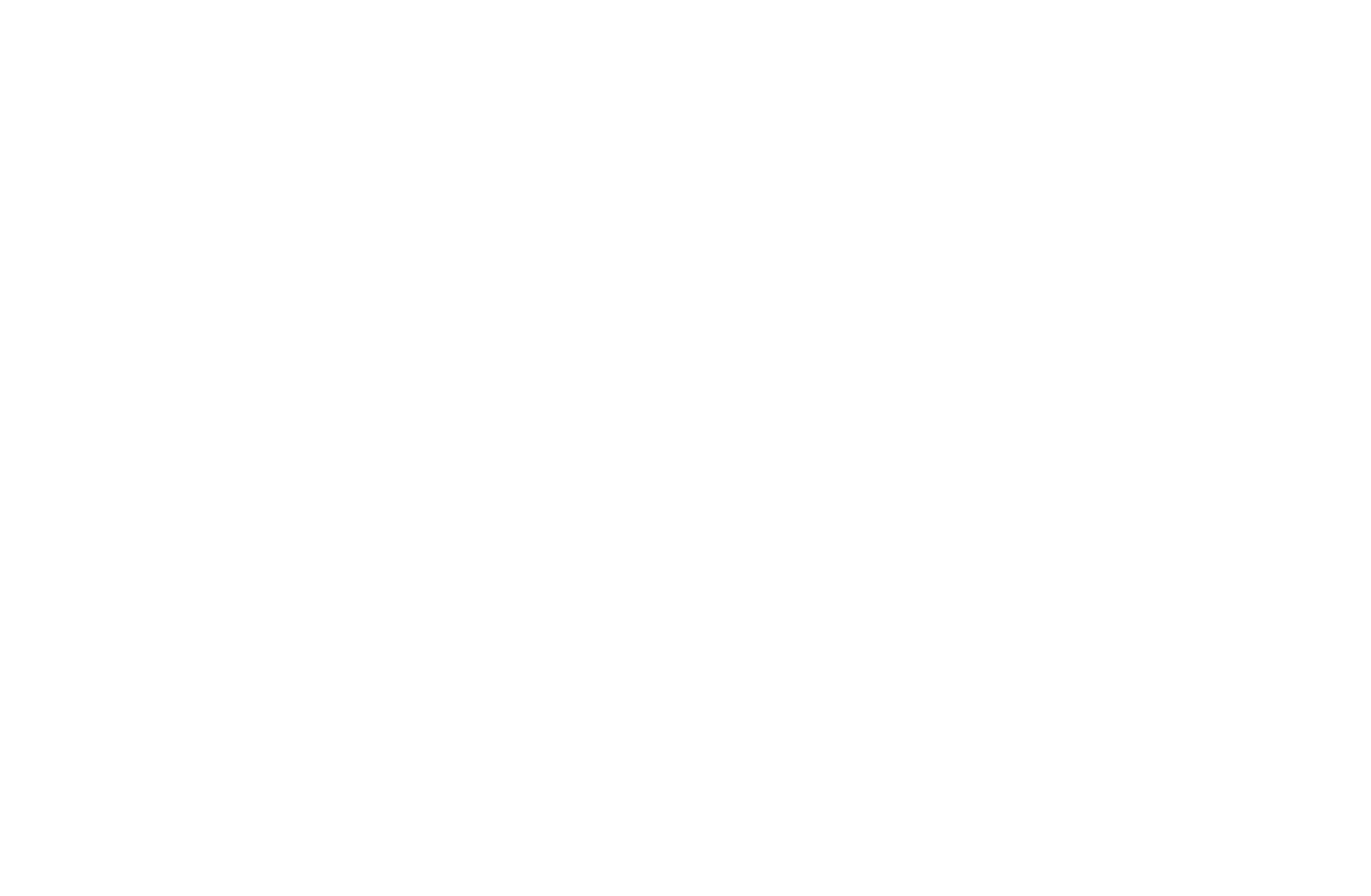
Маковский В.Е. Играющие дети. 1890
Помимо образовательного значения, экскурсии имели и несомненное воспитательное воздействие, поскольку, путешествуя, «школьник знакомится с жизнью лицом к лицу». Во время путешествий ребенок, «этот гражданин и человек в миниатюре» сталкивался со случайностями, превратностями и проблемами «в гомеопатических дозах», а значит, приучив свой организм, в будущем, он с большей стойкостью мог переносить возможные несчастья. Благотворно влияли экскурсии и на физическое развитие ребенка – «свежий воздух, благотворное солнце, не отравленная ядом культуры вода, непринужденные движения – вот что в избытке может дать поездка». Журналист предостерегал организаторов экскурсий от того, чтобы дети ездили в путешествия «барчатами», с толпой сопровождающих их взрослых. Пусть «школьники все сами делают: и сапи чистят, и с багажом возятся, и билеты берут, - все это имеет воспитательное значение», - писал автор.
Попробовав себя в таких «официальных» экскурсиях, дети (особенно мальчики) вполне могли затем организовывать свой досуг самостоятельно.
Попробовав себя в таких «официальных» экскурсиях, дети (особенно мальчики) вполне могли затем организовывать свой досуг самостоятельно.
«Отдохнув и вдоволь налюбовавшись голубым небом, мы встали со своих мест, и каждый наперебой советовал, что делать дальше: начать ли игру в мяч, собирать ли цветы или сначала искупаться. Наконец все сразу и единодушно пришли к одному решению: сначала нужно закусить».
Ученик 2-го класса Оренбургского реального училища С. Сабликов на страницах сборника «Труды досуга», издаваемого учащимися Оренбургского реального училища, писал о такой загородной прогулке, которую он совершил со своими товарищами в мае 1914 года. Ребята узнали, что переходят в следующий класс без экзаменов (вероятно, из-за больших успехов в учёбе), и решили отпраздновать это событие на природе. Запасшись провизией и взяв с собой чайник, мальчики отправились в лес.
Нам пришлось пройти около 3 км. «Отдохнув и вдоволь налюбовавшись голубым небом, мы встали со своих мест, и каждый наперебой советовал, что делать дальше: начать играть в мяч, собирать цветы или сначала искупаться.
Наконец все сразу и единодушно пришли к одному решению: сначала нужно перекусить», — сообщил автор. После завтрака было решено заварить чай, однако ни дров, ни углей ребята с собой не захватили — «всё это нужно было добывать в лесу самим». Мальчики собрали хворост, нашли удобное для костра место, но сразу разжечь костёр им не удалось. «Не знаю, было ли причиной тому наше “умение” разжигать костёр, но пришлось потратить полкоробки спичек, прежде чем он разгорелся», — констатировал участник похода. После того как чай наконец был заварен и выпит, ребята «дважды купались, играли в мяч, собирали и засушивали цветы, а также ловили рыбу, но ни одной не поймали». Как можно заметить, в этой заметке нет ни слова о каких-либо взрослых, которые сопровождали бы детей на загородной прогулке. Ученики 2-го класса (учитывая, что в реальные училища поступали в 11–12 лет, это были дети 12–13 лет) самостоятельно организовывали свой загородный отдых, разводили костёр и ловили рыбу. То есть какими-то элементарными навыками для всех этих действий дети уже обладали. Научиться им ребята могли как у родителей, так и во время организованных детских экскурсий.
Нам пришлось пройти около 3 км. «Отдохнув и вдоволь налюбовавшись голубым небом, мы встали со своих мест, и каждый наперебой советовал, что делать дальше: начать играть в мяч, собирать цветы или сначала искупаться.
Наконец все сразу и единодушно пришли к одному решению: сначала нужно перекусить», — сообщил автор. После завтрака было решено заварить чай, однако ни дров, ни углей ребята с собой не захватили — «всё это нужно было добывать в лесу самим». Мальчики собрали хворост, нашли удобное для костра место, но сразу разжечь костёр им не удалось. «Не знаю, было ли причиной тому наше “умение” разжигать костёр, но пришлось потратить полкоробки спичек, прежде чем он разгорелся», — констатировал участник похода. После того как чай наконец был заварен и выпит, ребята «дважды купались, играли в мяч, собирали и засушивали цветы, а также ловили рыбу, но ни одной не поймали». Как можно заметить, в этой заметке нет ни слова о каких-либо взрослых, которые сопровождали бы детей на загородной прогулке. Ученики 2-го класса (учитывая, что в реальные училища поступали в 11–12 лет, это были дети 12–13 лет) самостоятельно организовывали свой загородный отдых, разводили костёр и ловили рыбу. То есть какими-то элементарными навыками для всех этих действий дети уже обладали. Научиться им ребята могли как у родителей, так и во время организованных детских экскурсий.
Таким образом, организация детских прогулок, поездок, путешествий и экскурсий, в первую очередь, с позиций общественной пользы, должна была способствовать лучшему знакомству ребенка с жизнью, как она есть, вырабатывать навыки осознанного и ответственного поведения, подталкивать ребенка к взрослению (прежде всего, психологическому).