«Не место красит человека». Санитарное состояние города Оренбурга в конце XIX века как обстоятельство детской повседневности
Статья посвящена изучению вопроса о влиянии санитарного состояния города на повседневную жизнь детей в Оренбурге в конце XIX в. Источниками информации о чистоте и комфорте городского пространства послужили: официальный отчет оренбургского городского врача за 1896 год, обнаруженный в одном из архивных дел; фельетоны, напечатанные в оренбургской прессе того времени; специализированное медицинское исследование, а также своеобразная хроника Оренбурга, составленная в 1908 г. историком, краеведом и журналистом П. Н. Столпянским. Делается вывод о негативном влиянии городского пространства Оренбурга на детскую повседневность в исследуемый период.
Ссылка для цитирования: Бурлуцкая Е. В. "Не место красит человека". Санитарное состояние города Оренбурга в конце XIX века как обстоятельство детской повседневности // Человек и город в историко-культурном пространстве: Шестые краеведческие чтения, посвященные памяти почетного гражданина города Оренбурга Виктора Васильевича Дорофеева. Сборник статей. Оренбург: Оренбургский государственный педагогический университет, 2022. С. 47-56. EDN LQPQUE.
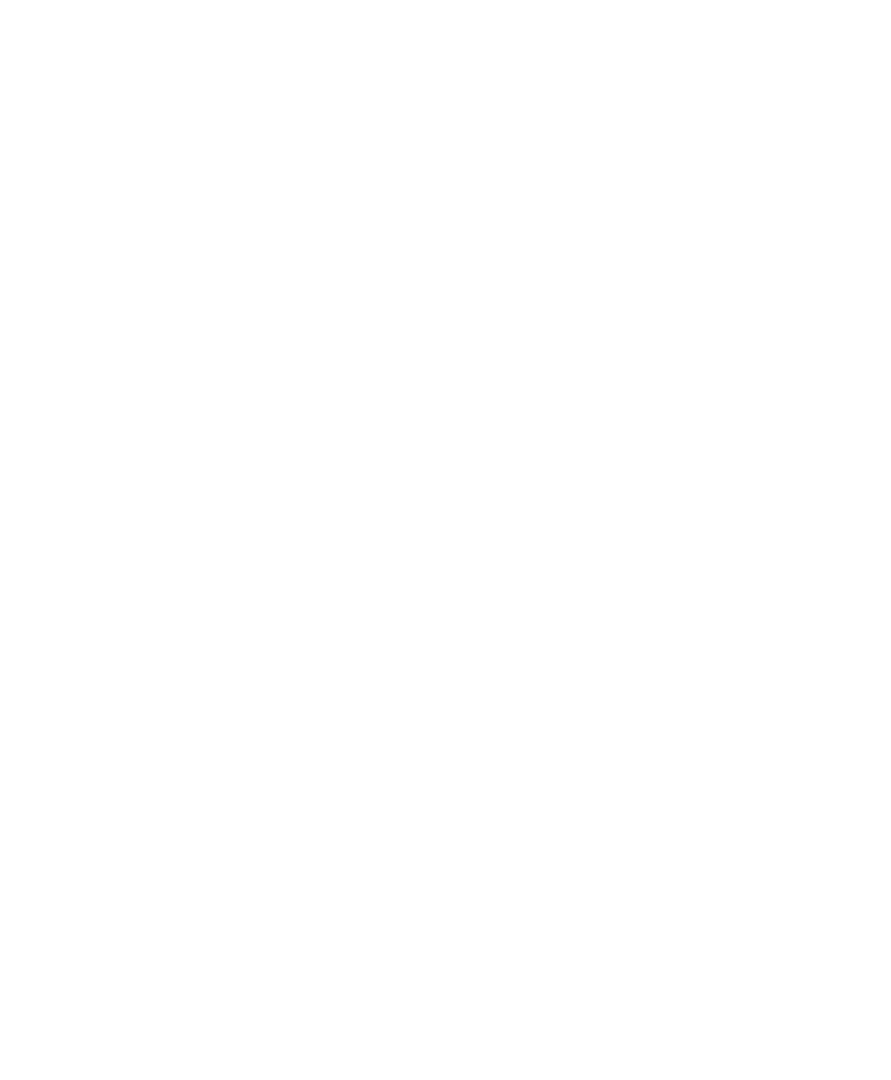
Около Архиерейского сада (район современного железнодорожного вокзала) располагалось третье болото площадью более 9 тыс. м2 , питаемое талыми и дождевыми водами, которое летом подсыхало. Дно этого «озера» состояло «из весьма глубокого слоя гниющего навоза», а берега были покрыты «кучами навоза, из которого в мае и июне приготовляется местное топливо (кизяк)».
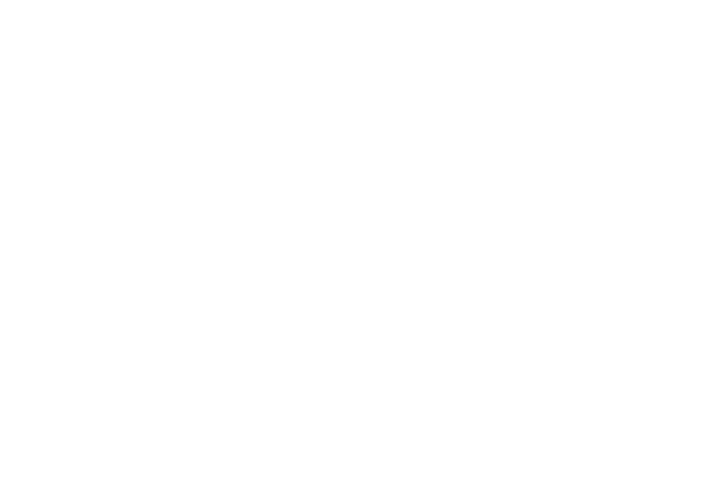
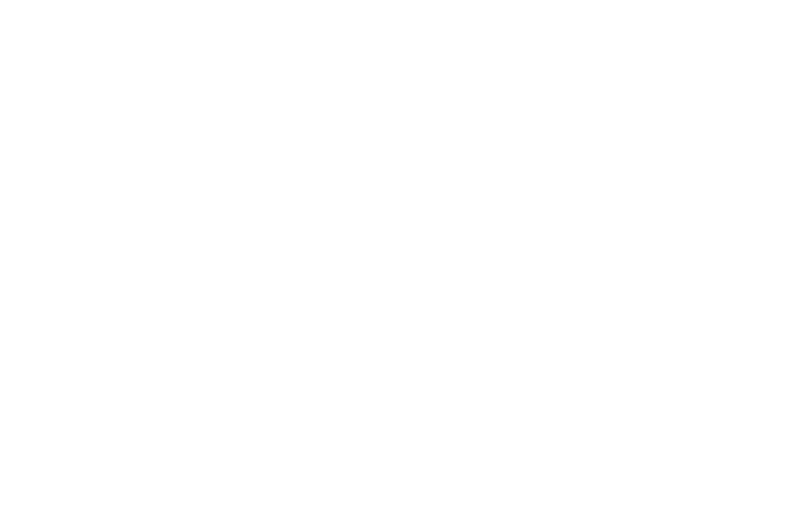
В итоге следует признать, что попытки родителей как-то укрепить здоровье собственных детей с помощью дачного отдыха могли, скорее, навредить детским организмам, нежели принести пользу. М. М. Кенигсберг, рассуждая в своем исследовании о причинах детской смертности, заключал, что «детская смертность находится в большой зависимости от загрязнений почвы и от болотистой и низменной местности…». По его мнению, именно в Старой слободке, расположенной к западу от центра города и являвшейся наиболее низменной его частью, «смертность детей гораздо сильнее выражена…». Таким образом, можно предположить, что наличие в Оренбурге большого числа подтапливаемых районов служило причиной высокой заболеваемости детей различными инфекциями, зачастую приводящими к смерти.
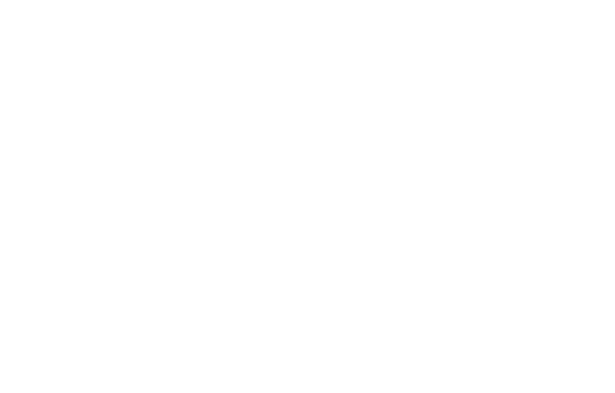
Фельетон в «Оренбургской газете» повествовал о ситуации, сложившейся в городских рыбных рядах. Автор в мартовском номере сетовал на то, что в рядах, несмотря «на значительный холод», ощущался жуткий запах тухлятины, «совершенно достаточный для того, чтобы поспешно воспользоваться носовым платком и крепко закрыть носовые отверстия». Что служило источником этого запаха: «рыба ли, разсол, икра или подвальная вода», — автор выяснять не желал, однако выражал надежду на то, что «гг. санитары не допустят гибели обывателей от удушения или от отравления гнилой рыбой».
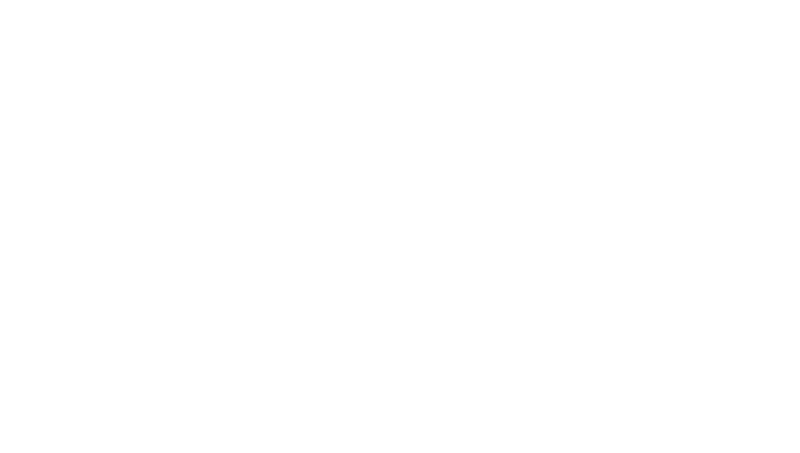
Неровности (выбоины на дорогах, остававшиеся после схода снега) на немощеных улицах и площадях заделывались навозом — материалом, которого в городе всегда было в достатке. Главные улицы очищались от сора, нечистот и песка местными арестантами. Однако достаточно регулярно это делалось лишь в отношении улицы Николаевской. Остальные же городские магистрали, даже те, по которым скот гнали на городские бойни (ул. Суринская — Постникова или ул. Гостинодворская — Кирова), очищали лишь по крайней необходимости.
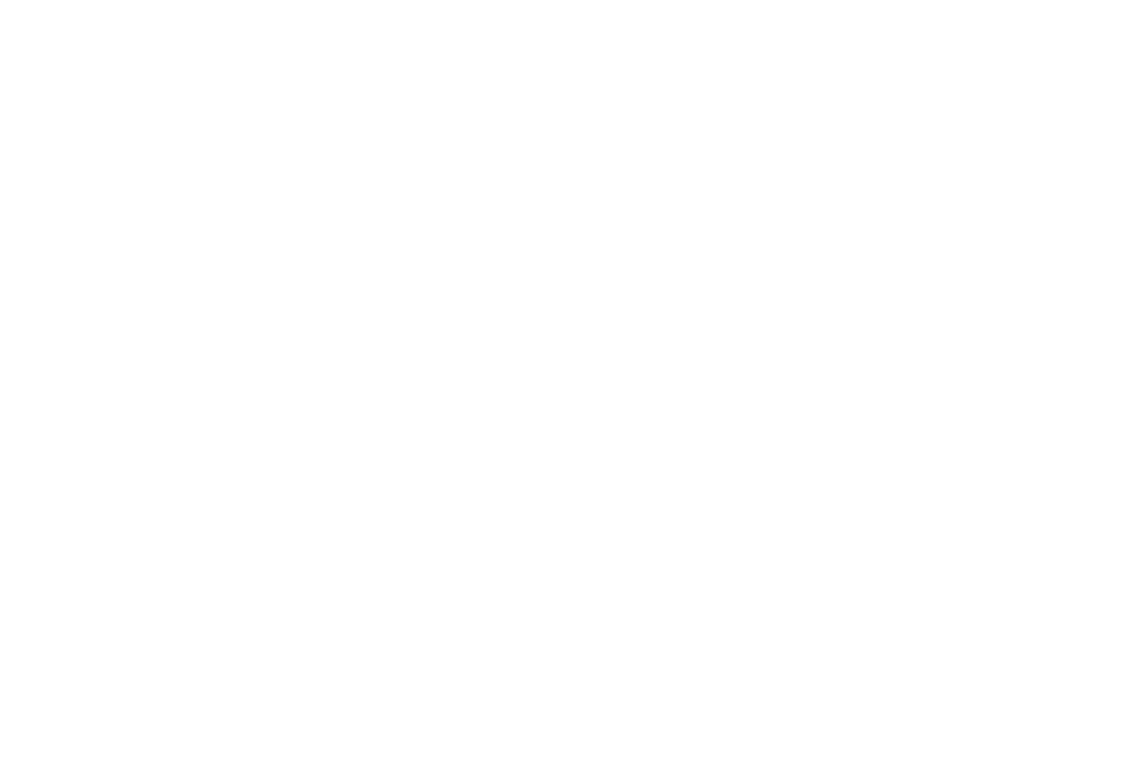
По подсчетам М. Кенигсберга, ежегодно в Оренбурге жителями накапливалось почти 27 тыс. пуд. нечистот. Как отмечалось автором, подобное «громадное количество экскрементов, при буквально полном отсутствии цементированных непромокаемых помойных ям, при отсутствии стоков для воды вообще, где все жидкие и твердые экскременты прямо выливаются на дворы, или улицы, или в простые, не выложенные непромокаемым слоем ямы, должно обязательно попасть в почву, просочиться и примешиваться к воде Урала и колодцев и попасть в питье тем же жителям».
«...Один из любителей древностей нашел в Форштадте кучу помета, оставленного Емельяном Пугачевым, и, как интересный памятник, повез в музей архивной комиссии, но, к его сожалению, там не приняли. А. В. Попов сослался на тесноту помещения»
Ни прохода, ни проезда!
Лошади идут по брюхо в воде, а обыватели, перепрыгивая с кочки на кочку, выделывают на улицах такие курбеты, каким может позавидовать любой клоун. В воздухе — миазмы, микробы тифа, скарлатины, дифтерита, туберкулеза, на выбор, получай, кто что хочет и т.д. С обывательских дворов течет на улицу всякая дрянь, и обыватель-землевладелец старается спустить ее возможно больше, и тем хоть отчасти от нее освободиться без особых расходов… Особенно горько смотреть на окраины города и на форштадт. Если бы Геркулеса вместо авгиевых конюшен заставили чистить обывательские дворы в форштадте, то, я уверен, он с отчаяния обязательно повесился бы на одном из столбов оренбургского несветящегося электричества».
Общественно-юмористический журнал «Пыль», издававшийся в Оренбурге, в № 10 за 1909 г., в разделе «Оренбургское эхо» сообщал, что «один из любителей древностей нашел в Форштадте кучу помета, оставленного Емельяном Пугачевым, и, как интересный памятник, повез в музей архивной комиссии, но, к его сожалению, там не приняли. А. В. Попов сослался на тесноту помещения»
«Вообще жители Оренбурга не доросли еще до сознания необходимости чистоты и опрятности ...»
В «лучших домах частных обывателей», общественных и правительственных зданиях к тому времени были введены в обращение «ватерклозеты системы Дореннинга и Молесоуарта». Их число к концу столетия превысило три сотни. Однако отсутствие в городе системы канализации, позволявшей централизованно выводить нечистоты за его пределы, приводило к тому, что воздух даже в домах аристократии был безнадежно испорчен
Кроме того, «организованные места для свалки нечистот находились за пределами городской линии: за железнодорожными путями, за христианским кладбищем, на Марсовом поле (территория от ул. 8-го Марта до Форштадта) за казармами, в районе Банного озера».
Вся эта прелесть городской жизни в Оренбурге сочеталась с наличием в городе боен. Помимо «общественных боен», открытых в 1895 г. за железной дорогой и содержащихся «в образцовом порядке», имелись еще старые бойни. Они располагались за Уралом, примерно в двух километрах от дач в Зауральной роще. Бойни представляли собой 10 сараев, рядом с которыми были вырыты огромные ямы примерно в 10 кубических метров каждая, куда должна была сливаться кровь. Вся площадь в округе во время резки скота (правда, делали это только в холодное время, чтобы окончательно не добить горожан жутким запахом) покрывалась горами гниющих внутренностей. Рядом располагались загоны для свиней, что еще больше усугубляло состояние воздуха.
Некоторым спасением для горожан служили постоянно дующие в городе сильные ветра. Как писал Кенигсберг, лишь «благодаря упомянутой усиленной, естественной вентиляции наших ветров мы еще относительно мало пострадали от такой грязи и общественной нечистоплотности, которая, без сомнения, в конце концов поборет и это благоприятное условие нашего города, и инфекция в смысле эпидемии все больше и больше начнет у нас получать право гражданства».
Благодарности. Выражаю огромную благодарность Н. К. Курмеевой за предоставленный для использования архивный материал.